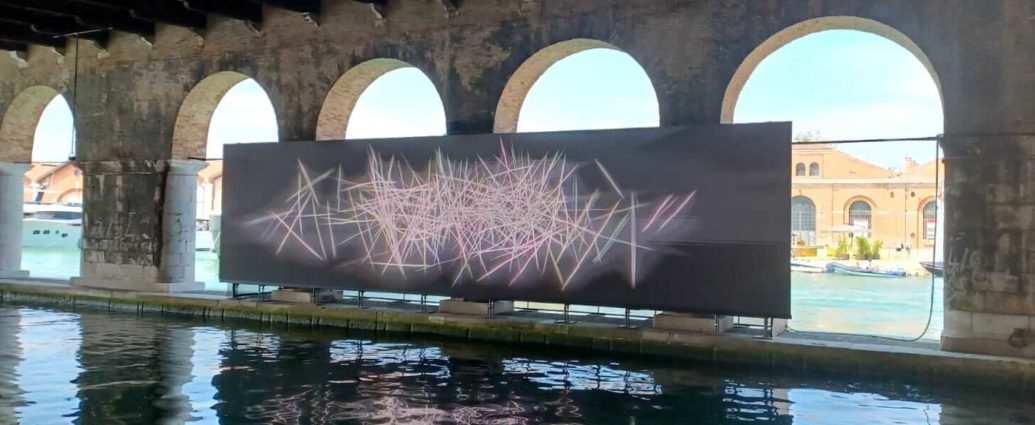АВИАТОР (ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА)
[…] Я хочу сказать, что нет событий основных и неосновных, и все важно, и все в дело идет – будь оно хорошим или плохим. Это понимает художник, рисующий жизнь в мельчайших деталях. Да, чего-то отразить он не в состоянии. Рисуя клумбу в южном городе, он не может вроде бы передать аромат цветов июльским вечером. И влажную духоту после дождя передать не может, в которой этот аромат растворяется, так что его можно пить. Но бывает удивительный момент, когда картина начинает благоухать. Потому что настоящее искусство – это выражение невыразимого, того, без чего жизнь неполна. Стремление к полноте выражения – это стремление к полноте истины. Есть что-то, что остается за пределами слов и красок.
Ты знаешь, что оно есть, но всё не можешь к нему подступиться – там глубина. Стоишь у самого прибоя и понимаешь, что дальше придется идти как-то иначе – не исключено, что прямо по воде. Потому что, сказав, например, “мое детство”, я не объясню будущей дочери ровно ничего. Чтобы дать ей хоть какое-то представление об этом, я должен буду описать тысячу разных подробностей, иначе ей не понять, в чем состояло тогдашнее мое счастье. Что в таком случае ждет описания? Ну, конечно же, обои над кроватью – я до сих пор помню их цветочный узор. По нему за минуту до сна вечерами скользит мой палец. Звон крышки ночного горшка, пронзительный, как оркестровые тарелки. Из звуков памятен еще – при каждом моем движении – скрип кровати. Рука гладит ее блестящие холодные трубки, сплетается с ними, даря им свое тепло. Съезжает вниз, ощупывает складки простыни и упирается в колено сидящей у кровати бабушки. Я рассматриваю люстру и ее паучьи тени. В центре потолка светло, а по углам мрак. На шкафу, излучая справедливость, держит весы Фемида. Бабушка читает «Робинзона Крузо».
Вторник
Сегодня по одному из телеканалов показывали фильм обо мне. Он был собран из отрывков интервью, что я давал последнее время. Отрывки перемежались соловецкой кинохроникой под грустную музыку. Музыка заменяла все тогдашние звуки и слова, которые были, конечно же, не музыкальны. Особенно слова.
Говорят, неполная правда – ложь. Лживость этой кинохроники даже не в том, что это прямая туфта, снятая по заказу ГПУ. Никого в лазарете я не видел в чистом белье, никто в комнате отдыха не читал газет, не играл в шахматы и т.д. Дело, повторяю, не в этом. Просто черно-белые фигуры, что мечутся по экрану, странным образом перестали соотноситься с действительностью, они – лишь выцветшие ее знаки. Такие же, как наскальные рисунки в пещерах – животные и человечки – забавные, напоминают настоящих, но о жизни тогдашней ничего не говорят. Смотришь на них, но ясно только то, что бизоны были четвероногие, люди двуноги – как, собственно, и сейчас.
А соловецкие звуки были – удар головой о нары, когда заходил вертухай и хватал з\к за волосы, и бил, бил его о стойку нар, пока не уставал; или щелканье гнид, когда их прижимали ногтем. Были и запахи. Раздавленными клопами пахло. Немытыми телами – мы ведь работали ежедневно на износ, но почти не мылись. И все это вместе сплеталось в общий запах отчаяния, цвет и звук отчаяния, потому что это только кажется, что они сокрыты в душе и недоступны органам чувств.
Существовали на острове, конечно, и шум леса, и колыханье папоротников, и запах сосновых шишек, и небо. Если приставить к глазам руки на манер бинокля, закрыв окружающее, то можно было представить себе, что это не над Соловками небо, а где-нибудь над Парижем или по меньшей мере над Питером. Такие вещи рождали не то чтобы надежду на перемену участи (ее не предвиделось), они как бы удостоверяли, что элементы разумного на свете все еще присутствуют – если не у людей, то в природе […]
PILOT (ODLOMEK IZ ROMANA)
[…] Želim povedati, da ni bistvenih in nebistvenih dogodkov, da je vse pomembno in vse šteje, pa naj bo dobro ali slabo. To razume umetnik, ki slika življenje v najmanjših podrobnostih. Da, določenih stvari ni zmožen upodobiti. Ko slika cvetlično gredo v južnem mestu, se zdi, da ne more prenesti vonja cvetlic v julijskem večeru. Tudi podeževne dušeče soparnosti, v kateri se ta vonj raztaplja, da ga je moč piti, ne zmore prenesti. Toda obstaja čudovit trenutek, ko slika prične dehteti. Kajti prava umetnost je izraz neizrazljivega, tistega, brez česar je življenje nepopolno. Stremljenje k popolnosti izraza je stremljenje k popolnosti resnice. Obstaja nekaj, kar ostaja onkraj besed in barv.
Veš, da obstaja, a se mu nikakor ne moreš približati. Tam je globina. Stojiš čisto na robu pečine in veš, da bo dalje potrebno ubrati drugo pot, morda prav po vodi. Kajti, če bom rekel svoji bodoči hčerki na primer besedi »moje otroštvo«, ji s tem ne bom povedal prav ničesar. Da bi si ustvarila vsaj približno predstavo o tem, bom moral opisati tisoč različnih podrobnosti, sicer ne bo razumela, iz česa je bila sestavljena moja takratna sreča. In kaj je v takšnem primeru potrebno opisati? Seveda, tapeto nad posteljo – še danes se spomnim cvetličnega vzorca. Po njem ob večerih minuto pred spancem drsi moj prst. Zven pokrova nočne posode, predirljiv, kakor orkestrske činele. Od zvokov mi je ostalo v spominu še škripanje postelje ob vsakem mojem gibu. Roka boža svetleč hladen okvir postelje, se spleta z njim in mu podarja svojo toploto. Se spusti navzdol, tipa gube rjuhe in se nasloni na koleno babice, ki sedi ob postelji. Pozorno opazujem lestenec in njegove pajčevinaste sence. Sredina stropa je svetla, v kotih je temno. Na omari, izžarevajoč pravičnost, drži tehtnico Temida. Babica bere Robinsona Crusoeja.
Torek
Danes je eden od televizijskih kanalov predvajal film o meni. Bil je sestavljen iz odlomkov intervjujev, ki sem jih dal pred kratkim. Odlomki so se ob spremljavi žalostne glasbe izmenjevali s soloveškim dokumentarnim filmom. Glasba je nadomestila vse takratne zvoke in besede, ki so bile, se razume, nemelodične. Še posebej besede.
Pravijo, da je nepopolna resnica enaka laži. Lažnost tega dokumentarnega filma niti ni v tem, da gre za popolno izmišljotino, posneto na ukaz DPU. V lazaretu nisem videl nikogar v čistem spodnjem perilu, nihče ni bral časopisov v sobi za počitek, igral šah in podobno. Še enkrat ponavljam, da stvar ni v tem. Črno-bele figure, ki begajo po zaslonu, so se na čuden način enostavno prenehale skladati s stvarnostjo, so le še njene zbledele sledi. Prav takšne kot stenske poslikave v jamah – smešne živali in človečki, ki spominjajo na prave, a nič ne govorijo o takratnem življenju. Zreš vanje, a razumeš samo to, da so bili bizoni štirinogi, ljudje pa dvonogi, kot so pravzaprav tudi sedaj.
Soloveški zvoki pa so obstajali; udarec z glavo ob pograd, ko je vstopil paznik in zgrabil zapornika za lase in ga udarjal, udarjal ob ogrodje pograda, dokler se ni naveličal; ali pa pokanje gnid, ko so jih stiskali z nohtom. Bili so tudi vonji. Vonjalo je po zmečkanih stenicah. In po neumitih telesih. Navsezadnje smo vsak dan garali kot živine, umivali pa se skorajda nismo. In vse to se je prepletalo v skupen vonj obupa, v barvo in zvok obupa, saj se le zdi, da so bili skriti v duši in nedosegljivi čutilom.
Seveda so bili na otoku tudi šum gozda in zibanje praprotja, in vonj borovih storžev, in nebo. Če si k očem prislonil roke v obliki daljnogleda in odmislil okolico, si je bilo mogoče predstavljati, da to ni nebo nad otočjem Solovki, ampak nekje nad Parizom ali pa vsaj nad Peterburgom. Takšne stvari so vzbujale ne le upanje na spremembo usode (to ni bilo predvideno), temveč so nekako potrjevale, da so elementi razumnega v svetu še zmeraj prisotni. Če ne v ljudeh, pa v naravi […]
Vinsent Vilčnik, University of Ljubljana
Edited by: Polonca Pirnat, University of Ljubljana and Aleksandra Krasovec, Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences